Вронский стоял в просторной и чистой, разгороженной надвое чухонской избе, Петрицкий жил с ним вместе и в лагерях. Петрицкий спал, когда Вронский с Яшвиным вошли в избу.— Вставай, будет спать, — сказал Яшвин, заходя за перегородку и толкая за плечо уткнувшегося носом в подушку взлохмаченного Петрицкого.Петрицкий вдруг вскочил на коленки и оглянулся.Твой брат был здесь, — сказал он Вронскому. — Разбудил меня, черт его возьми, сказал, что придет опять. — И он опять, натягивая одеяло, бросился на подушку. — Да оставь же, Яшвин, — говорил он, сердясь на Яшвина, тащившего с него одеяло. — Оставь! — Он повернулся и открыл глаза. — Ты лучше скажи, что выпить; такая гадость во рту, что…— Водки лучше всего, — пробасил Яшвин. — Терещенко! водки барину и огурец, — крикнул он, видимо любя слушать свой голос.— Водки, ты думаешь? А? — спросил Петрицкий, морщась и протирая глаза. — А ты выпьешь? Вместе, так выпьем! Вронский, выпьешь? — сказал Петрицкий, вставая и закутываясь под руками в тигровое одеяло.Он вышел в дверь перегородки, поднял руки и запел по-французски: «Был король в Ту-у-ле». — Вронский, выпьешь?— Убирайся, — сказал Вронский, надевавший подаваемый лакеем сюртук.— Это куда? — спросил его Яшвин. — Вот и тройка, — прибавил он, увидев подъезжавшую коляску.— В конюшню, да еще мне нужно к Брянскому об лошадях, — сказал Вронский.Вронский действительно обещал быть у Брянского, в десяти верстах от Петергофа, и привезти ему за лошадей деньги; и он хотел успеть побывать и там. Но товарищи тотчас же поняли, что он не туда только едет.Петрицкий, продолжая петь, подмигнул глазом и надул губы, как бы говоря: знаем, какой это Брянский.— Смотри не опоздай! — сказал только Яшвин и, чтобы переменить разговор: — Что мой саврасый, служит хорошо? — спросил он, глядя в окно, про коренного, которого он продал.— Стой! — закричал Петрицкий уже уходившему Вронскому. — Брат твой оставил письмо тебе и записку. Постой, где они?Вронский остановился.— Ну, где же они?— Где они? Вот в чем вопрос! — проговорил торжественно Петрицкий, проводя кверху от носа указательным пальцем.— Да говори же, это глупо! — улыбаясь, сказал Вронский.— Камина я не топил. Здесь где-нибудь.— Ну, полно врать! Где же письмо?— Нет, право забыл. Или я во сне видел? Постой, постой! Да что ж сердиться! Если бы ты, как я вчера, выпил четыре бутылочки на брата, ты бы и забыл, где ты лежишь. Постой, сейчас вспомню!Петрицкий пошел за перегородку и лег на свою кровать.— Стой! Так я лежал, так он стоял. Да-да-да-да… Вот оно! — И Петрицкий вынул письмо из-под матраца, куда он запрятал его.Вронский взял письмо и записку брата. Это было то самое, что он ожидал, — письмо от матери с упреками за то, что он не приезжал, и записка от брата, в которой говорилось, что нужно переговорить. Вронский знал, что это все о том же. «Что им за дело!» — подумал Вронский и, смяв письма, сунул их между пуговиц сюртука, чтобы внимательно прочесть дорогой. В сенях избы ему встретились два офицера: один их, а другой другого полка.Квартира Вронского всегда была притоном всех офицеров.— Куда?— Нужно, в Петергоф.— А лошадь пришла из Царского?— Пришла, да я не видал еще.— Говорят, Махотина Гладиатор захромал.— Вздор! Только как вы по этой грязи поскачете? — сказал другой.— Вот мои спасители! — закричал, увидав вошедших, Петрицкий, пред которым стоял денщик с водкой и огурцом на подносе. — Вот Яшвин велит пить, чтоб освежиться.— Ну, уж вы нам задали вчера, — сказал один из пришедших, — всю ночь не давали спать.— Нет, каково мы окончили! — рассказывал Петрицкий. — Волков залез на крышу и говорит, что ему грустно. Я говорю, давай музыку, погребальный марш! Он так на крыше и заснул под погребальный марш.— Так что ж пить? — говорил он, держа рюмку и морщась.— Выпей, выпей водки непременно, а потом сельтерской воды и много лимона, — говорил Яшвин, стоя над Петрицким, как мать, заставляющая ребенка принимать лекарство, — а потом уж шампанского немножечко, — так, бутылочку.— Вот это умно. Постой, Вронский, выпьем.— Нет, прощайте, господа, нынче я не пью.— Что ж, потяжелеешь? Ну, так мы одни. Давай сельтерской воды и лимон.— Вронский! — закричал кто-то, когда он уж выходил в сени.— Что?— Ты бы волоса обстриг, а то они у тебя тяжелы, особенно на лысине.Вронский действительно преждевременно начинал плешиветь. Он весело засмеялся, показывая свои сплошные зубы и, надвинув фуражку на лысину, вышел и сел в коляску.— В конюшню! — сказал он и достал было письма, чтобы прочесть их, но потом раздумал, чтобы не развлекаться до осмотра лошади. — «Потом!..»
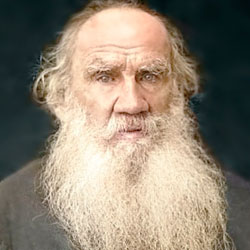
XX
шрифт:
20 из 35
Материал подготовлен редакцией Lit-ra.su
Ответственный редактор: Николай Камышов (литературовед). Текст выверен по академическим источникам.
